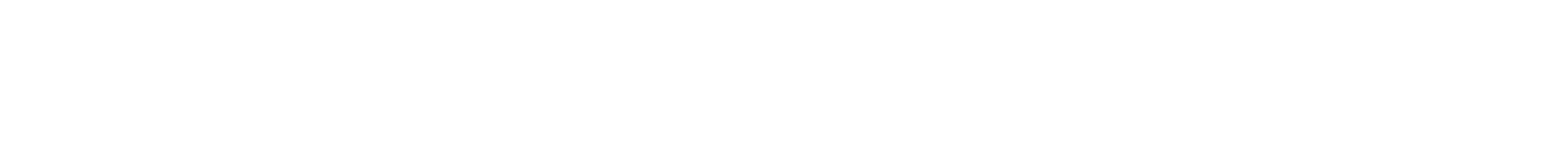
Зачем (не) нужно искусство?
Самое прекрасное в искусстве то, что оно — взятое в своей предельной чистоте, т. е. не в своих многочисленных частных прикладных аспектах — ни для чего не нужно и ничему не способно послужить. Оно не является инструментом, не является средством, в качестве произведений оно просто существует и осуществляется. Искусство — частный и обособленный символ жизни как тотальности. Пространство жизни включает в себя всё и вся, поэтому нет такой точки или состояния вне его, что могло бы послужить целью или внешним смыслом, превращающим жизнь лишь в средство. Столь тривиализированное понятие «смысла жизни», строго говоря, само по себе лишено значения: смысл может быть у чаши — она для того, чтобы из нее пили, жизнь же не может иметь подобного смысла.
Как же, скажете вы, ведь я прекрасно знаю, что моя жизнь — лишь часть этого большого мира, незначительная часть истории человечества и, шире, Вселенной, мегаистории. Молниеносное мгновение по космическим меркам… До меня люди жили, посвящали свои жизни делам и трудам самоотверженно, самозабвенно. И после меня жить будут люди. Может быть, даже лучше чем я, особенно если я постараюсь.
Что же, все верно. Но только в том случае, если забыть, что и представления об истории, о космосе, о закономерностях и грандиозных структурах мира, о других людях, их трудах и днях — часть необъятного и лишенного границ жизненного мира (ведь чтобы установить ему границу, следует оказаться за его пределами, что, с очевидностью, невозможно). Лишь изначальное и неизбежное расщепление нашей жизни как предполагаемой тотальности делает возможными ценности, поведение, смысл и прочие вещи, без которых сама эта тотальность будет бессмысленным единством, лишенным внутренних различий и структур. Понять сказанное лучше на собственном опыте может помочь феномен сна — знакомое всем неуловимое, текучее состояние, редко когда становящееся предметом специальной рефлексии, если только под рефлексией не понимать простое сопоставление сновидческих грез и событий «реальной жизни».
Чем бы ни была субъективность с точки зрения метафизик бодрствующего сознания, хоть обыденных, берущих исток из здравого смысла и грамматики повседневного языка, хоть изощренных, пытающихся в своей рефлексии разорвать путы обыденного мышления современности, во сне она представлена как нечто еще бесформенное, неотчетливое, податливое. Субъект сна, тот, кто воспринимает и действует, распадается на множество осколков, которые затем с некоторым усилием и не без изобретательности собираются в ходе интерпретации сна по пробуждении самого сновидца. Мир и человек во сне не обособлены, человек не принимает своего имени, своей судьбы, своей истории, своей отделенности от мира и других. Iδιος κόσμος, обособленный мир, оказывается одним из способов существования, причем чуть ли не подлинным его модусом, «сияющим всего ярче». Сновидение свидетельствует, что в основании общего мира, κοινός κόσμος, в котором мы живем общей жизнью с другими людьми, разделяем историю, боремся с испытаниями, страдаем, любим, лежит принцип отделения. Общее возможно только тогда, когда изначально существует коммуницирующее отдельное. Такая возможность и актуальность существования постоянно находится под угрозой тотального одиночества, некоммуницируемости; лишь постоянная безотчетная активность структур сознания порождает общий жизненный мир.
«Мир сновидения — это собственный мир не в том смысле, что субъективный опыт здесь противостоит нормам объективности, но в том, что он конституируется в том исходном модусе мира, что всецело имманентен мне и возвещает лишь о моем собственном одиночестве… Прорывая эту объективность, завораживающую бодрствующее сознание и возвращая человеческому субъекту его радикальную свободу, сновидение парадоксальным образом обнажает устремленность свободы к миру, изначальной точке, начиная с которой свобода становится миром. Космогония сновидения есть исток существования как такового. Это движение одиночества и изначальной ответственности, и несомненно именно это Гераклит обозначил своим знаменитым ἴδιος κόσμος.» (М.Фуко, Введение к: «Сон и существование"Бинсвангера)
Мне не кажется столь несомненным, что Гераклит имел в виду именно такого рода космогоническую суть сновидения и грез, вышеприведенный фрагмент DK B89 (согласно принятому обозначению фрагментов, по изданию Дильса-Кранца) стоит рассматривать вместе с иными фрагментами, уточняющими его смысл. Слишком уж современная и вольная, бунтарская фантазия чудится за этой интерпретацией. Отдельный мир, мир обособленного, мир идиота, мир того, кто «отсутствует, присутствуя», кто подобен глухому (DK B34), достоин осмеяния для грека, который вряд ли в движении собственных размышлений соответствовал той поздней изощренности экзистенциальной мысли, что вкладывает в его слова Фуко. Ведь для древнего философа ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ φρονέειν (DK B113), т. е. разум для всех общий, а отдельное не может быть разумным и здравым. Однако и фрагменты философа, прозванного еще в античности Тёмным, и нейтральный монизм Бертрана Рассела, и драма вечно страдающей и неизбежно обращенной лишь на саму себя мировой воли Шопенгауэра, и многие другие метафизики, которые не могут обойтись без противопоставления внутреннего и внешнего, имманентного и трансцендентного, могут быть поняты именно в таком ключе: отдельный мир является движением к миру общему, они неразрывно связаны, хоть эта связь и зашифрована, скрыта. Общий космос, как достояние и границы микрокосма индивида, создается движениями его собственного сознания. Эти движения разоблачает сон, он делает их видимыми.
Следует отметить, что сам я отнюдь не склонен выдвигать какого-либо метафизического тезиса, постулировать некое замкнутое в себе бытие, обозначив его как «тотальность жизни». Чтобы подобная операция была возможна, нужно иметь возможность посмотреть на жизнь sub specie aeternitatis, с позиции бестелесного и безвременного наблюдателя, а это кажется предприятием заранее обреченным на провал, вне зависимости от того, сколь бурное цветение необоснованных идей оно способно породить. Жизнь, таким образом, самоценна, так как не имеет внешних по отношению к ней объектов, которые могли бы быть внешней ценностью. Ценности — лишь момент самой жизни, нечто, что творится в ее рамках, посему о смысле жизни можно говорить лишь тогда, когда под жизнью понимается отчужденный от единства более или менее произвольный аспект целостности (очевидно, что термин «жизнь» в таком случае будет употребляться в двух значениях, ближе всего соответствующих логическому отношению частное/целое). Однако понимание жизни как тотальности отнюдь не ведет к каким-то чудесам и фокусам: старающийся мыслить себя в рамках тотального единства я и не-я субъект отнюдь не становится штирнеровским Единственным, хозяином всего прочего; вещи сохраняют свою плотность, а реальность все так же опасна и таинственна.
Наиболее близкой аналогией жизни как самоценного является искусство, оно символ чего-то, что существует, делается, производится ради него самого, «из чистого интереса». Это высший и лучший урок искусства, который оно способно, как мне кажется, нам преподать. Не просто урок, надежда на освобождение из тюрьмы, что опаснее и мрачнее всех прочих. Однако это не единственный урок искусства, так как изложенный взгляд на эту сферу не отменяет того факта, что искусство, будучи относительно автономным образованием, тем не менее тесно переплетено с культурой и обществом, чьи институты и функционирующие дискурсы как раз и обеспечивают возможность взгляда на искусство как на автономную общественную сферу и автономную сферу значений.
Произведение искусства в ходе исторического процесса неизбежно наследует формы как элементы традиции, те или иные интерпретации, связанные с внешними обстоятельствами, и т. д. Оно обрастает эмоциональными, идеологическими и прочими аспектами, проявляющимися в ходе понимания произведения искусства и в выражении этого понимания посредством речи. Частная ценность искусства (одна среди иных, возможность которой обосновывается чем-то вроде «естественной установки» как совокупности широко разделяемых культурных ценностей) в противовес собственному характеру искусства, понимаемого как самоценное и обособленное, состоит в его способности выразить то, что в силу различных причин не поддается выражению иными способами, в его способности радовать или потрясать, быть машиной коммуникации и, наконец, являть непроницаемую телесность вещей.
Искусство способно затронуть то, что так или иначе вытеснено из сознания отдельных людей и из их взаимодействий, однако оказывает вполне реальное воздействие в качестве вытесненного. Великие скорби немы, но не только оттого, что замалчиваются в силу страха нарушить табу, но в силу того, что страдание, как и радость, не может быть полноценно выражено в рамках описания, понятия. Интеллектуализация чувства не поможет невротику совладать со своими бедами, интеллектуализация общих для многих людей бед, имеющих исторический, культурный, даже экзистенциальный характер, лишь зафиксирует их в качестве понятия, безмолвного факта, «таковости», ссылки на саму скорбь или фрустрацию. Искусство способно дать этому нерациональному, недискурсивному голос. В этом одно из значений искусства, оправдывающих его как социальное явление, ведь когда речь заходит о социальном явлении, всегда маячит перспектива суда, осуждения или оправдания.
Как же, скажете вы, ведь я прекрасно знаю, что моя жизнь — лишь часть этого большого мира, незначительная часть истории человечества и, шире, Вселенной, мегаистории. Молниеносное мгновение по космическим меркам… До меня люди жили, посвящали свои жизни делам и трудам самоотверженно, самозабвенно. И после меня жить будут люди. Может быть, даже лучше чем я, особенно если я постараюсь.
Что же, все верно. Но только в том случае, если забыть, что и представления об истории, о космосе, о закономерностях и грандиозных структурах мира, о других людях, их трудах и днях — часть необъятного и лишенного границ жизненного мира (ведь чтобы установить ему границу, следует оказаться за его пределами, что, с очевидностью, невозможно). Лишь изначальное и неизбежное расщепление нашей жизни как предполагаемой тотальности делает возможными ценности, поведение, смысл и прочие вещи, без которых сама эта тотальность будет бессмысленным единством, лишенным внутренних различий и структур. Понять сказанное лучше на собственном опыте может помочь феномен сна — знакомое всем неуловимое, текучее состояние, редко когда становящееся предметом специальной рефлексии, если только под рефлексией не понимать простое сопоставление сновидческих грез и событий «реальной жизни».
Чем бы ни была субъективность с точки зрения метафизик бодрствующего сознания, хоть обыденных, берущих исток из здравого смысла и грамматики повседневного языка, хоть изощренных, пытающихся в своей рефлексии разорвать путы обыденного мышления современности, во сне она представлена как нечто еще бесформенное, неотчетливое, податливое. Субъект сна, тот, кто воспринимает и действует, распадается на множество осколков, которые затем с некоторым усилием и не без изобретательности собираются в ходе интерпретации сна по пробуждении самого сновидца. Мир и человек во сне не обособлены, человек не принимает своего имени, своей судьбы, своей истории, своей отделенности от мира и других. Iδιος κόσμος, обособленный мир, оказывается одним из способов существования, причем чуть ли не подлинным его модусом, «сияющим всего ярче». Сновидение свидетельствует, что в основании общего мира, κοινός κόσμος, в котором мы живем общей жизнью с другими людьми, разделяем историю, боремся с испытаниями, страдаем, любим, лежит принцип отделения. Общее возможно только тогда, когда изначально существует коммуницирующее отдельное. Такая возможность и актуальность существования постоянно находится под угрозой тотального одиночества, некоммуницируемости; лишь постоянная безотчетная активность структур сознания порождает общий жизненный мир.
«Мир сновидения — это собственный мир не в том смысле, что субъективный опыт здесь противостоит нормам объективности, но в том, что он конституируется в том исходном модусе мира, что всецело имманентен мне и возвещает лишь о моем собственном одиночестве… Прорывая эту объективность, завораживающую бодрствующее сознание и возвращая человеческому субъекту его радикальную свободу, сновидение парадоксальным образом обнажает устремленность свободы к миру, изначальной точке, начиная с которой свобода становится миром. Космогония сновидения есть исток существования как такового. Это движение одиночества и изначальной ответственности, и несомненно именно это Гераклит обозначил своим знаменитым ἴδιος κόσμος.» (М.Фуко, Введение к: «Сон и существование"Бинсвангера)
Мне не кажется столь несомненным, что Гераклит имел в виду именно такого рода космогоническую суть сновидения и грез, вышеприведенный фрагмент DK B89 (согласно принятому обозначению фрагментов, по изданию Дильса-Кранца) стоит рассматривать вместе с иными фрагментами, уточняющими его смысл. Слишком уж современная и вольная, бунтарская фантазия чудится за этой интерпретацией. Отдельный мир, мир обособленного, мир идиота, мир того, кто «отсутствует, присутствуя», кто подобен глухому (DK B34), достоин осмеяния для грека, который вряд ли в движении собственных размышлений соответствовал той поздней изощренности экзистенциальной мысли, что вкладывает в его слова Фуко. Ведь для древнего философа ξυνόν ἐστι πᾶσι τὸ φρονέειν (DK B113), т. е. разум для всех общий, а отдельное не может быть разумным и здравым. Однако и фрагменты философа, прозванного еще в античности Тёмным, и нейтральный монизм Бертрана Рассела, и драма вечно страдающей и неизбежно обращенной лишь на саму себя мировой воли Шопенгауэра, и многие другие метафизики, которые не могут обойтись без противопоставления внутреннего и внешнего, имманентного и трансцендентного, могут быть поняты именно в таком ключе: отдельный мир является движением к миру общему, они неразрывно связаны, хоть эта связь и зашифрована, скрыта. Общий космос, как достояние и границы микрокосма индивида, создается движениями его собственного сознания. Эти движения разоблачает сон, он делает их видимыми.
Следует отметить, что сам я отнюдь не склонен выдвигать какого-либо метафизического тезиса, постулировать некое замкнутое в себе бытие, обозначив его как «тотальность жизни». Чтобы подобная операция была возможна, нужно иметь возможность посмотреть на жизнь sub specie aeternitatis, с позиции бестелесного и безвременного наблюдателя, а это кажется предприятием заранее обреченным на провал, вне зависимости от того, сколь бурное цветение необоснованных идей оно способно породить. Жизнь, таким образом, самоценна, так как не имеет внешних по отношению к ней объектов, которые могли бы быть внешней ценностью. Ценности — лишь момент самой жизни, нечто, что творится в ее рамках, посему о смысле жизни можно говорить лишь тогда, когда под жизнью понимается отчужденный от единства более или менее произвольный аспект целостности (очевидно, что термин «жизнь» в таком случае будет употребляться в двух значениях, ближе всего соответствующих логическому отношению частное/целое). Однако понимание жизни как тотальности отнюдь не ведет к каким-то чудесам и фокусам: старающийся мыслить себя в рамках тотального единства я и не-я субъект отнюдь не становится штирнеровским Единственным, хозяином всего прочего; вещи сохраняют свою плотность, а реальность все так же опасна и таинственна.
Наиболее близкой аналогией жизни как самоценного является искусство, оно символ чего-то, что существует, делается, производится ради него самого, «из чистого интереса». Это высший и лучший урок искусства, который оно способно, как мне кажется, нам преподать. Не просто урок, надежда на освобождение из тюрьмы, что опаснее и мрачнее всех прочих. Однако это не единственный урок искусства, так как изложенный взгляд на эту сферу не отменяет того факта, что искусство, будучи относительно автономным образованием, тем не менее тесно переплетено с культурой и обществом, чьи институты и функционирующие дискурсы как раз и обеспечивают возможность взгляда на искусство как на автономную общественную сферу и автономную сферу значений.
Произведение искусства в ходе исторического процесса неизбежно наследует формы как элементы традиции, те или иные интерпретации, связанные с внешними обстоятельствами, и т. д. Оно обрастает эмоциональными, идеологическими и прочими аспектами, проявляющимися в ходе понимания произведения искусства и в выражении этого понимания посредством речи. Частная ценность искусства (одна среди иных, возможность которой обосновывается чем-то вроде «естественной установки» как совокупности широко разделяемых культурных ценностей) в противовес собственному характеру искусства, понимаемого как самоценное и обособленное, состоит в его способности выразить то, что в силу различных причин не поддается выражению иными способами, в его способности радовать или потрясать, быть машиной коммуникации и, наконец, являть непроницаемую телесность вещей.
Искусство способно затронуть то, что так или иначе вытеснено из сознания отдельных людей и из их взаимодействий, однако оказывает вполне реальное воздействие в качестве вытесненного. Великие скорби немы, но не только оттого, что замалчиваются в силу страха нарушить табу, но в силу того, что страдание, как и радость, не может быть полноценно выражено в рамках описания, понятия. Интеллектуализация чувства не поможет невротику совладать со своими бедами, интеллектуализация общих для многих людей бед, имеющих исторический, культурный, даже экзистенциальный характер, лишь зафиксирует их в качестве понятия, безмолвного факта, «таковости», ссылки на саму скорбь или фрустрацию. Искусство способно дать этому нерациональному, недискурсивному голос. В этом одно из значений искусства, оправдывающих его как социальное явление, ведь когда речь заходит о социальном явлении, всегда маячит перспектива суда, осуждения или оправдания.
