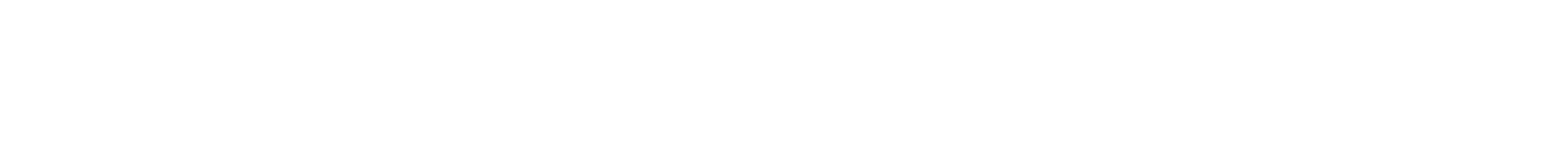
Субъект и импровизация
Импровизация все ещё рассматривается как деятельность, плоды которой уступают в ценности плодам композиторского труда. Причины этого многообразны и коренятся как в становлении и истории академической музыки, так и в архетипах европейской культуры. Ставшее, окончательно оформленное, порожденное единовластным субъектом-медиумом, якобы транслирующим шифры запредельного, Трансцендентного, кажется чем-то более качественным и ценным, чем-то, что находится в постоянном становлении, что не зафиксировано, что порождено анонимным субъектом, скорее подлежащим власти музыки и момента, нежели властвующим над ними. Антагонизм между импровизацией и композицией — противоборство между бытием и сущим, между становлением и вещью, между процессом и объектом, между потоком и трансцендентальным субъектом, между анонимностью, распределённостью власти и единовластием. Импровизация, особенно в России, остаётся частью андеграунда, делом энтузиастов, практически не пользующимся поддержкой официальных институтов: это, в том числе, следствие неконвенциональности импровизации, метода, который сейчас содержит мощный критический потенциал по отношению к установившимся моделям власти и культурным иерархиям. Композиция, партитура предписывает, она подразумевает достаточно жесткие иерархии, в который высшая власть и статус достаются композитору как источнику творческой воли. Композиция архаична, тогда как импровизация отрицает иерархии и опирается на партнерство, на равенство и творческое взаимодействие.
Триумф композиции, который привел к тому, что практика импровизации из уважаемой в эпоху барокко дисциплины превратилась в маргинальное искусство, был подготовлен развитием концепции субъекта как источника власти и политической историей Европы. Романтический и классический субъект — единственный источник власти, демиург, своим промыслом привносящий порядок и форму в беспредельность и бесформенность природы, он единственный источник света и блага, преодолевающий сумерки естественного зла. Если человек в эпоху барокко, вслед за ментальностью Средних веков, все ещё ощущал себя скорее подвластным, нежели властителем, ощущал себя вплетенным в сеть сложных воздействий, ощущал себя подчиненным природе и высшим силам, то романтический субъект пытается вырваться из этого подчинения. Но так как человек и его разум хрупки и податливы как воск, то романтический субъект становится носителем раздробленного несчастного сознания: он отрицает внешнюю детерминацию, утверждает собственный промысел, но в то же время остаётся во власти внешних обстоятельств. Это несовпадение внутренне углубляет его, делает способным на эмоциональное высказывание, на патетику, привлекает его взор к грандиозному и возвышенному как символам оппонирующей ему безжалостной природы, но одновременно ранит. Неслучайно пессимизм — как литературный, так и музыкальный — достаточно позднее явление в европейской культуре.
Начиная с XIX века и вплоть до середины XX века импровизация все более и более теряет престиж и исчезает как элемент концерта. Еще Бетховен, идя против установленного порядка, настаивал на том, чтобы в его инструментальных концертах исполнитель играл его собственные выписанные каденции, а не импровизировал, как это было принято. Высшей точкой забвения импровизации, предшествующей перелому, можно счесть сериализм в булезовском варианте — тотальная музыкальная практика, максимально убиравшая интуитивность, произвол как исполнителя, так и композитора. Зенит композиторской власти содержал в себе возможность собственного распада и, следовательно, возвращения импровизации. Не случайно после периода тотального сериализма, композиторской техники, в котором властвует, по словам самого Булеза, фетишизм числа и механизма, где произведение является детерминированным результатом решения своеобразного музыкального уравнения, именно Булез внес элементы случайности — т. е. свободной импровизации — в свои сочинения под именем алеаторики, вдохновленный идеями американских композиторов, в частности, Джона Кейджа.
На первый взгляд импровизация и композиция — далекие полюсы, разделенные бездной. Композитор создаёт свои сочинения согласно плану, фиксирует их, он похож на энтомолога, который пришпиливает бабочек и жучков своей коллекции. Импровизатор же похож на вдохновенного волшебника-садовника, который прямо на глазах изумленной публики заботливо и за считанные мгновения выращивает из семечка распустившиеся цветы и сочные плоды. Если зафиксированная в партитуре пьеса — это негибкое, жесткое, старое дерево, то импровизационная пьеса — подвижное разнотравие, спутанное корневище без центра и границ. Однако в этих, как кажется, диаметрально противоположных видах музыкальной деятельности есть свои сходства. К примеру, импровизация может оперировать посредством памяти устойчивыми структурами и темами из музыкальной традиции, а композитор неизбежно оставляет часть материала на промысел исполнителя, который волен прибегать к исполнительским конвенциям или творчески решать задачу, поставленную партитурой. Импровизация и композиция скорее подразумевают акцент на разных навыках, между ними нет непреодолимого разрыва. Даже записанные в виде самой подробной партитуры в духе Брайана Фёрнихоу пьесы неизбежно подразумевают некоторую степень исполнительской импровизации, а импровизация, даже свободная, все равно предполагает некоторую предварительную, прекомпозиционную, распределенную во времени работу ума. И композиция, и импровизация опираются на память, на творческую работу с ней, на рекомбинацию и метаморфозы уже отзвучавшего. Впрочем, только импровизация способна в полной мере вдохнуть жизнь в застывшие формы, превратить объекты в поток, в порыв.
Однако между этими практиками есть существенные отличия, которые влияют и на характер самой музыки. Сочиненная композитором музыка зафиксирована в виде партитуры, она письменная, тогда как импровизация — нет. Постфактум импровизация может быть зафиксирована в виде нот, но на процесс её создания нотный медиум не оказывает влияния. Импровизация осуществляется в реальном времени, здесь и сейчас, тогда как композиция всегда отложена, между актом сочинения и исполнения всегда есть временной промежуток, исполнение сочиненной пьесы — всегда взгляд в прошлое. Импровизация часто групповая активность, тогда как композиция чаще всего — дело одного человека. Все эти отличия приводят к тому, что композиторская музыка очень часто — благодаря отложенному характеру — способна более тонко работать с мелкими деталями, полифонической структурой, экспериментальными структурными идеями, тогда как импровизация — и это является её силой — способна к созданию размашистых, необычных, неожиданных макроструктур и сочетаний, способна на гибкую реакцию на мгновенный контекст, в том числе внемузыкальный.
Европейскому музыкальному миру изначально свойственно противостояние и напряжение между письменной музыкальной традицией и традицией импровизационной, между традицией, в которой композитор и исполнитель четко различены, и той, в которой это распределение неотчетливо. Сосуществование музыкально «устного» и «письменного» не является чем-то уникальным для ХХ века, когда импровизационная музыка или джаз и академическая традиция начали бороться за своего слушателя. Наряду с «высоким» академическим жанром всегда существовала неписьменная народная музыка или мощные импровизационные традиции в восточной музыке.
В противостоянии импровизационной музыки и классики, таким образом, скрывается одна из фундаментальных противоположностей европейской культуры — сосуществование двух типов отношения к истории. В случае письменной традиции история существует как наглядное присутствие прошлого в настоящем в виде текстов, нотного письма и постоянно выражаемых эксплицитно — в виде руководств — техник исполнения, сочинения, интерпретации музыки. В случае джаза, народной музыки, свободной импровизации история присутствует неявно, как поток и основание, история присутствует не как знание, но как действие. Таким же образом история роста неявно содержится в кольцах ствола могучего древа, год за годом крепнущего и разрастающегося. Такое противопоставление характерно и для литературы, и для политики — оно скрывается в романтизации естественного, «дикарского», или же, напротив, высокого, сложного, чистого, оно подразумевается в атаке романтизма и философии жизни, превыше всего ставящую жизненный порыв, на рационализм и классическую культуру. Если для композиторской, письменной музыки характерно письмо, комментирующее большой исторический нарратив классической музыки, характерно протяженное историческое дыхание, то импровизация скорее действует точечно и локально в духе истории повседневности, в духе малых историй, комментируя музыкальную обыденность, текущий момент. Таким образом, импровизация расколдовывает, секуляризует музыкально-прекрасное, делая его достоянием текущего момента, сегодняшнего дня, а не утраченного священного прошлого. Благодаря импровизации мы можем, сохраняя всю любовь и уважение, не оглядываться постоянно в поисках одобрения и легитимизации своей музыки на Баха.
Академизация джаза, появление академической экспериментальной музыки, free improvisation, стохастической музыки, индетерминизма и алеаторики, интерес композиторов Запада к восточной музыке, лишь нарастающий и крепнущий с того момента, как Дебюсси услышал звучание индонезийского гамелана на Всемирной выставке в Париже, — всё это симптомы очередного витка принятия письменной, историкоцентристской, гибкой и адаптирующейся традицией Запада неписьменной культуры в свое лоно. Письменная, «высокая», академическая культура тесно связана с институтами власти и экономическими институтами, она всегда — в силу своей социальной позиции — наиболее тесно связана с дисциплиной и, следовательно, социальным неравенством, с сохранением и воспроизводством. Однако, все записанное является лишь «партитурой, которую нужно сыграть живой мысли», посему диалог между письменной культурой и культурой импровизационной неизбежен. Академизм сообщает импровизационной музыке и джазу социальную и культурную респектабельность, джаз и экспериментальная музыка дарят академической традиции жизненные силы и надежду на то, что она способна транслировать не только утверждение социального порядка, завернутое в разглагольствования об общечеловеческом содержании академической музыки, но и быть дорогой к свободе — свободе как возможности выбора между насыщенными альтернативами, жанрами, модусами существования, а не свободе как безразличию в мире кажущегося многообразия, не имеющего под собой оснований.
Популярность композиторской музыки отчасти связана со становлением и развитием концепции субъекта как единственного источника власти и творческой мысли. Начиная с первой промышленной революции в последней трети XVIII века и заканчивая серединой XX века укрепляется представление о том, что благом является то, что создано одним субъектом, сосредотачивающим в своих руках все возможные ресурсы и представление о должном и правильном. Возрастание как производственной, так и культурной роли индивида вело, как это описывает в своем знаменитом труде «История безумия в классическую эпоху» Мишель Фуко, к оформлению стратегий изоляции иного, малого, отпадающего и, таким образом, к контролю как доминирующих общностей, так и подчиненных через концепции «нормального». Эти стратегии и соответствующие представления пронизывали все страты культурной и общественной жизни. В жизни политической это привело к рождению и укреплению крупных, централизованных, бюрократических государств. В медицине, к примеру — к появлению клиники и концепции пациента как инертного объекта воздействия медицинской власти, в музыке — к уже упомянутому росту престижа композиторской музыки, ставшей музыкой per se, единственной «настоящей» музыкой. Развитие идей централизации, укрепление властвующих субъектов идет параллельно с неизбежной маргинализацией всего локального, отличающегося, всех малых практик, в том числе, в случае музыки, импровизации. Импровизации осталось место лишь в рамках обучения и как вспомогательному инструменту при сочинении музыки. Впрочем, в сознании просвещённого любителя музыки она оставалась в виде экзотичной восточной традиции, вроде музыки для гамелана или индийской раги, интерес к которым, в силу развития европейского культурного универсализма и колониализма, возник в конце XIX века.
Однако развитие идей Просвещения и аккумуляция власти в субъекте, который стал в XIX веке не незначительной частью мира, а целым, сложным, внутренне противоречивым миром, привело в том числе к катастрофе тоталитарных государств — изнанкой гуманизма оказалась полная бесчеловечность. Рефлексия над истоками мировых войн, страх и разочарование привели к сдвигам в культуре и общественном сознании в конце 40-х — начале 50-х годов XX века. Неслучайно именно в середине века, сначала как отдельные инициативы, а потом все более и более явно, как легитимная музыкальная практика возвращается в академическую и экспериментальную музыку импровизация. Именно в это время благодаря склонным к экспериментам джазовым музыкантам рождается феномен свободной импровизации. Скажем, именно в конце 50-х годов Орнетт Коулман записывает легендарный и важный для свободного джаза альбом The Shapes of Jazz to Come. В это же время начинает действовать импровизационное трио Оливерос-Раш-Райли, возникают объединения и ансамбли импровизаторов как в Америке, так и в Европе. В музыку проникают идеи индетерминизма и алеаторики, отчасти возвещающие освобождения музыки от тоталитарной композиторской власти и расчищающие путь для импровизации.
В наше время благодаря новым медиумам (информационным средам, средам коммуникации, в которых возможен творческий и культурный труд) локальность, групповая активность, распределённость стали новыми ориентирами и ценностями, порождающими культурные блага. Импровизация оказывается в этом смысле ультрасовременной практикой, так как ориентируется на локальные групповые взаимодействия. Кроме того, импровизация — это всегда актуальность, всегда перформанс, нечто, что свершается здесь и сейчас в своей телесности, это конкретная музыка, что в эпоху тоски по телесному, непосредственному присутствию становится важным. Если композиция размывает моменты времени, приводит к утрате непосредственности момента, ведь всегда является чем-то ориентированным на прошлое, на образец, содержащийся в партитуре, воплощающий сформированную идею, то импровизация, напротив, обостряет чувство времени, придаёт настоящему моменту плотность и реальность. Ханс Гумбрехт в «Производстве присутствия» утверждает, что европейской культуре присуще колебание между ориентацией на присутствие и интерпретацией как опознанием и присвоением значений. Если композиторская практика — это каскад толкований, герменевтика звука, ускользающая в абсолютную абстрактность идеи, то импровизационная музыка тяготеет к предельной воплощенности, к ограниченности текущим местом и временем.
Импровизация с её акцентами на распределении власти и ответственности кажется прогрессивным искусством. Благодаря сети Интернет, системе транспорта и новым производственным практикам глобальный, объединенный мир распадается на взаимодействующие, связанные мириадами контактов и линий локальные сообщества, каждое из которых вносит свой вклад, свою мелодию в musica mundana, мировую гармонию. С помощью импровизации мы можем мыслить музыку, которая не будет подчинена некой грандиозной угрожающей и подавляющей фигуре композитора, но которая возникает из этичного и творческого взаимодействия, музыку, в которой будет место для каждого голоса, музыку множественности. Импровизация — это искусство будущего, музыка, приоткрывающая возможности солидарности и братства между совершенно различными людьми, живущими в разных уголках земли. В условиях перепроизводства музыки, когда груз прошлых столетий давит нестерпимо на наши плечи, ценности, ассоциированные с импровизацией, могут быть дорогой к новой музыке, к новым формам её бытования и форматам слушания.
Триумф композиции, который привел к тому, что практика импровизации из уважаемой в эпоху барокко дисциплины превратилась в маргинальное искусство, был подготовлен развитием концепции субъекта как источника власти и политической историей Европы. Романтический и классический субъект — единственный источник власти, демиург, своим промыслом привносящий порядок и форму в беспредельность и бесформенность природы, он единственный источник света и блага, преодолевающий сумерки естественного зла. Если человек в эпоху барокко, вслед за ментальностью Средних веков, все ещё ощущал себя скорее подвластным, нежели властителем, ощущал себя вплетенным в сеть сложных воздействий, ощущал себя подчиненным природе и высшим силам, то романтический субъект пытается вырваться из этого подчинения. Но так как человек и его разум хрупки и податливы как воск, то романтический субъект становится носителем раздробленного несчастного сознания: он отрицает внешнюю детерминацию, утверждает собственный промысел, но в то же время остаётся во власти внешних обстоятельств. Это несовпадение внутренне углубляет его, делает способным на эмоциональное высказывание, на патетику, привлекает его взор к грандиозному и возвышенному как символам оппонирующей ему безжалостной природы, но одновременно ранит. Неслучайно пессимизм — как литературный, так и музыкальный — достаточно позднее явление в европейской культуре.
Начиная с XIX века и вплоть до середины XX века импровизация все более и более теряет престиж и исчезает как элемент концерта. Еще Бетховен, идя против установленного порядка, настаивал на том, чтобы в его инструментальных концертах исполнитель играл его собственные выписанные каденции, а не импровизировал, как это было принято. Высшей точкой забвения импровизации, предшествующей перелому, можно счесть сериализм в булезовском варианте — тотальная музыкальная практика, максимально убиравшая интуитивность, произвол как исполнителя, так и композитора. Зенит композиторской власти содержал в себе возможность собственного распада и, следовательно, возвращения импровизации. Не случайно после периода тотального сериализма, композиторской техники, в котором властвует, по словам самого Булеза, фетишизм числа и механизма, где произведение является детерминированным результатом решения своеобразного музыкального уравнения, именно Булез внес элементы случайности — т. е. свободной импровизации — в свои сочинения под именем алеаторики, вдохновленный идеями американских композиторов, в частности, Джона Кейджа.
На первый взгляд импровизация и композиция — далекие полюсы, разделенные бездной. Композитор создаёт свои сочинения согласно плану, фиксирует их, он похож на энтомолога, который пришпиливает бабочек и жучков своей коллекции. Импровизатор же похож на вдохновенного волшебника-садовника, который прямо на глазах изумленной публики заботливо и за считанные мгновения выращивает из семечка распустившиеся цветы и сочные плоды. Если зафиксированная в партитуре пьеса — это негибкое, жесткое, старое дерево, то импровизационная пьеса — подвижное разнотравие, спутанное корневище без центра и границ. Однако в этих, как кажется, диаметрально противоположных видах музыкальной деятельности есть свои сходства. К примеру, импровизация может оперировать посредством памяти устойчивыми структурами и темами из музыкальной традиции, а композитор неизбежно оставляет часть материала на промысел исполнителя, который волен прибегать к исполнительским конвенциям или творчески решать задачу, поставленную партитурой. Импровизация и композиция скорее подразумевают акцент на разных навыках, между ними нет непреодолимого разрыва. Даже записанные в виде самой подробной партитуры в духе Брайана Фёрнихоу пьесы неизбежно подразумевают некоторую степень исполнительской импровизации, а импровизация, даже свободная, все равно предполагает некоторую предварительную, прекомпозиционную, распределенную во времени работу ума. И композиция, и импровизация опираются на память, на творческую работу с ней, на рекомбинацию и метаморфозы уже отзвучавшего. Впрочем, только импровизация способна в полной мере вдохнуть жизнь в застывшие формы, превратить объекты в поток, в порыв.
Однако между этими практиками есть существенные отличия, которые влияют и на характер самой музыки. Сочиненная композитором музыка зафиксирована в виде партитуры, она письменная, тогда как импровизация — нет. Постфактум импровизация может быть зафиксирована в виде нот, но на процесс её создания нотный медиум не оказывает влияния. Импровизация осуществляется в реальном времени, здесь и сейчас, тогда как композиция всегда отложена, между актом сочинения и исполнения всегда есть временной промежуток, исполнение сочиненной пьесы — всегда взгляд в прошлое. Импровизация часто групповая активность, тогда как композиция чаще всего — дело одного человека. Все эти отличия приводят к тому, что композиторская музыка очень часто — благодаря отложенному характеру — способна более тонко работать с мелкими деталями, полифонической структурой, экспериментальными структурными идеями, тогда как импровизация — и это является её силой — способна к созданию размашистых, необычных, неожиданных макроструктур и сочетаний, способна на гибкую реакцию на мгновенный контекст, в том числе внемузыкальный.
Европейскому музыкальному миру изначально свойственно противостояние и напряжение между письменной музыкальной традицией и традицией импровизационной, между традицией, в которой композитор и исполнитель четко различены, и той, в которой это распределение неотчетливо. Сосуществование музыкально «устного» и «письменного» не является чем-то уникальным для ХХ века, когда импровизационная музыка или джаз и академическая традиция начали бороться за своего слушателя. Наряду с «высоким» академическим жанром всегда существовала неписьменная народная музыка или мощные импровизационные традиции в восточной музыке.
В противостоянии импровизационной музыки и классики, таким образом, скрывается одна из фундаментальных противоположностей европейской культуры — сосуществование двух типов отношения к истории. В случае письменной традиции история существует как наглядное присутствие прошлого в настоящем в виде текстов, нотного письма и постоянно выражаемых эксплицитно — в виде руководств — техник исполнения, сочинения, интерпретации музыки. В случае джаза, народной музыки, свободной импровизации история присутствует неявно, как поток и основание, история присутствует не как знание, но как действие. Таким же образом история роста неявно содержится в кольцах ствола могучего древа, год за годом крепнущего и разрастающегося. Такое противопоставление характерно и для литературы, и для политики — оно скрывается в романтизации естественного, «дикарского», или же, напротив, высокого, сложного, чистого, оно подразумевается в атаке романтизма и философии жизни, превыше всего ставящую жизненный порыв, на рационализм и классическую культуру. Если для композиторской, письменной музыки характерно письмо, комментирующее большой исторический нарратив классической музыки, характерно протяженное историческое дыхание, то импровизация скорее действует точечно и локально в духе истории повседневности, в духе малых историй, комментируя музыкальную обыденность, текущий момент. Таким образом, импровизация расколдовывает, секуляризует музыкально-прекрасное, делая его достоянием текущего момента, сегодняшнего дня, а не утраченного священного прошлого. Благодаря импровизации мы можем, сохраняя всю любовь и уважение, не оглядываться постоянно в поисках одобрения и легитимизации своей музыки на Баха.
Академизация джаза, появление академической экспериментальной музыки, free improvisation, стохастической музыки, индетерминизма и алеаторики, интерес композиторов Запада к восточной музыке, лишь нарастающий и крепнущий с того момента, как Дебюсси услышал звучание индонезийского гамелана на Всемирной выставке в Париже, — всё это симптомы очередного витка принятия письменной, историкоцентристской, гибкой и адаптирующейся традицией Запада неписьменной культуры в свое лоно. Письменная, «высокая», академическая культура тесно связана с институтами власти и экономическими институтами, она всегда — в силу своей социальной позиции — наиболее тесно связана с дисциплиной и, следовательно, социальным неравенством, с сохранением и воспроизводством. Однако, все записанное является лишь «партитурой, которую нужно сыграть живой мысли», посему диалог между письменной культурой и культурой импровизационной неизбежен. Академизм сообщает импровизационной музыке и джазу социальную и культурную респектабельность, джаз и экспериментальная музыка дарят академической традиции жизненные силы и надежду на то, что она способна транслировать не только утверждение социального порядка, завернутое в разглагольствования об общечеловеческом содержании академической музыки, но и быть дорогой к свободе — свободе как возможности выбора между насыщенными альтернативами, жанрами, модусами существования, а не свободе как безразличию в мире кажущегося многообразия, не имеющего под собой оснований.
Популярность композиторской музыки отчасти связана со становлением и развитием концепции субъекта как единственного источника власти и творческой мысли. Начиная с первой промышленной революции в последней трети XVIII века и заканчивая серединой XX века укрепляется представление о том, что благом является то, что создано одним субъектом, сосредотачивающим в своих руках все возможные ресурсы и представление о должном и правильном. Возрастание как производственной, так и культурной роли индивида вело, как это описывает в своем знаменитом труде «История безумия в классическую эпоху» Мишель Фуко, к оформлению стратегий изоляции иного, малого, отпадающего и, таким образом, к контролю как доминирующих общностей, так и подчиненных через концепции «нормального». Эти стратегии и соответствующие представления пронизывали все страты культурной и общественной жизни. В жизни политической это привело к рождению и укреплению крупных, централизованных, бюрократических государств. В медицине, к примеру — к появлению клиники и концепции пациента как инертного объекта воздействия медицинской власти, в музыке — к уже упомянутому росту престижа композиторской музыки, ставшей музыкой per se, единственной «настоящей» музыкой. Развитие идей централизации, укрепление властвующих субъектов идет параллельно с неизбежной маргинализацией всего локального, отличающегося, всех малых практик, в том числе, в случае музыки, импровизации. Импровизации осталось место лишь в рамках обучения и как вспомогательному инструменту при сочинении музыки. Впрочем, в сознании просвещённого любителя музыки она оставалась в виде экзотичной восточной традиции, вроде музыки для гамелана или индийской раги, интерес к которым, в силу развития европейского культурного универсализма и колониализма, возник в конце XIX века.
Однако развитие идей Просвещения и аккумуляция власти в субъекте, который стал в XIX веке не незначительной частью мира, а целым, сложным, внутренне противоречивым миром, привело в том числе к катастрофе тоталитарных государств — изнанкой гуманизма оказалась полная бесчеловечность. Рефлексия над истоками мировых войн, страх и разочарование привели к сдвигам в культуре и общественном сознании в конце 40-х — начале 50-х годов XX века. Неслучайно именно в середине века, сначала как отдельные инициативы, а потом все более и более явно, как легитимная музыкальная практика возвращается в академическую и экспериментальную музыку импровизация. Именно в это время благодаря склонным к экспериментам джазовым музыкантам рождается феномен свободной импровизации. Скажем, именно в конце 50-х годов Орнетт Коулман записывает легендарный и важный для свободного джаза альбом The Shapes of Jazz to Come. В это же время начинает действовать импровизационное трио Оливерос-Раш-Райли, возникают объединения и ансамбли импровизаторов как в Америке, так и в Европе. В музыку проникают идеи индетерминизма и алеаторики, отчасти возвещающие освобождения музыки от тоталитарной композиторской власти и расчищающие путь для импровизации.
В наше время благодаря новым медиумам (информационным средам, средам коммуникации, в которых возможен творческий и культурный труд) локальность, групповая активность, распределённость стали новыми ориентирами и ценностями, порождающими культурные блага. Импровизация оказывается в этом смысле ультрасовременной практикой, так как ориентируется на локальные групповые взаимодействия. Кроме того, импровизация — это всегда актуальность, всегда перформанс, нечто, что свершается здесь и сейчас в своей телесности, это конкретная музыка, что в эпоху тоски по телесному, непосредственному присутствию становится важным. Если композиция размывает моменты времени, приводит к утрате непосредственности момента, ведь всегда является чем-то ориентированным на прошлое, на образец, содержащийся в партитуре, воплощающий сформированную идею, то импровизация, напротив, обостряет чувство времени, придаёт настоящему моменту плотность и реальность. Ханс Гумбрехт в «Производстве присутствия» утверждает, что европейской культуре присуще колебание между ориентацией на присутствие и интерпретацией как опознанием и присвоением значений. Если композиторская практика — это каскад толкований, герменевтика звука, ускользающая в абсолютную абстрактность идеи, то импровизационная музыка тяготеет к предельной воплощенности, к ограниченности текущим местом и временем.
Импровизация с её акцентами на распределении власти и ответственности кажется прогрессивным искусством. Благодаря сети Интернет, системе транспорта и новым производственным практикам глобальный, объединенный мир распадается на взаимодействующие, связанные мириадами контактов и линий локальные сообщества, каждое из которых вносит свой вклад, свою мелодию в musica mundana, мировую гармонию. С помощью импровизации мы можем мыслить музыку, которая не будет подчинена некой грандиозной угрожающей и подавляющей фигуре композитора, но которая возникает из этичного и творческого взаимодействия, музыку, в которой будет место для каждого голоса, музыку множественности. Импровизация — это искусство будущего, музыка, приоткрывающая возможности солидарности и братства между совершенно различными людьми, живущими в разных уголках земли. В условиях перепроизводства музыки, когда груз прошлых столетий давит нестерпимо на наши плечи, ценности, ассоциированные с импровизацией, могут быть дорогой к новой музыке, к новым формам её бытования и форматам слушания.
