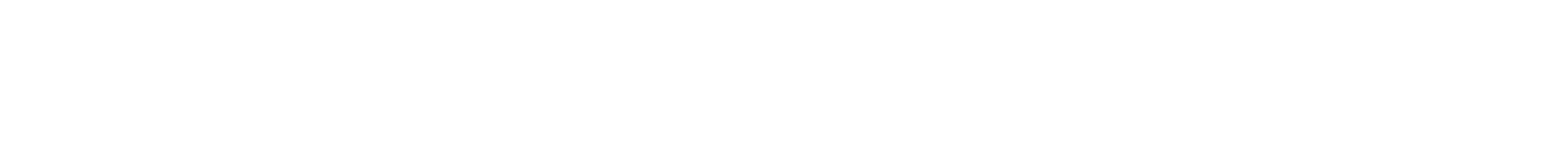
Меланхолика

Меланхолика — это отчасти биографический, отчасти активистский арт-проект. В нём я с помощью творчества — музыки и поэтических текстов — фиксирую свой путь сквозь ледяные пустоши депрессивного провала, через который я сейчас прохожу. Проект, который фиксирует и, что самое важное, преображает мой опыт на протяжении нескольких тяжелейших недель ноября-декабря 2021 года, состоит из 24 фортепианных прелюдий и 12 поэм. Нет никаких правил, как нужно взаимодействовать с Меланхоликой, но предполагается, что слушатель будет читать стихи под музыку.
Творчество кажется спасением, актом творения из ничего. Это тайна появления ex nihilo, тайна негарантированного и невозможного в силу невероятной редкости — так великие земли нашего мира, нашей Вселенной возникли, выдвинулись из пустоты, так зажглись звезды, так в плотной, горячей Вселенной впервые возник свет. Мысли об этом заставляют меня трепетать.
Музыка и тексты, с одной стороны, способ для меня выразить свои ощущения и мысли и, таким образом, почувствовать реальность и плотность собственного существования, которые ускользают во время депрессии, с другой стороны, являются коммуникативным актом, способом самоподдержки и способом получить поддержку, пусть и виртуальную. Способом заявить — для себя и других — "я реален и я существую, через что бы мне не пришлось проходить".
Пожалуй, одно из самых неприятных проявлений хронической резистентной депрессии — это постоянно пульсирующее где-то в подкорке чувство отчаяния. Оно нашёптывает, что твое время истекло, что ничего хорошего уже не будет, что все испробовано, что все, что ты делаешь, бессмысленно и ничтожно. И лишь постоянным усилием воли удается держать эти мысли на горизонте сознания, гнать их, чтобы они становились меньше, чтобы они голодали и мельчали. Это постоянное привычное усилие очень утомляет, обескровливает, делает жизнь в каком-то смысле плоской и однонаправленной; очень хочется расслабиться и отдохнуть, но нельзя, так как сразу начнёшь тонуть в этой вязкой смоле. Поэтому приходится продолжать и каждый день начинать свою борьбу заново.
Музыка может помочь выместить чувства — превратить эмоцию в моторику, в движение пальцев над фортепианной клавиатурой. Кажется, именно это мы называем способностью музыки выражать эмоции; звук даже не столько выражает, сколько замещает чувство, как это бывает с нечленораздельными возгласами или мимикой. Но важнее выражения то, что музыка способна дарить нам возможность проживать истории, которые никогда с нами не происходили и не могли происходить. В этих историях может нарушаться даже сама логика — они невероятны и невозможны, но все же существуют, все же звучат и ведут за собой. И щемящая грусть, которая часто примешивается к нашему восприятию музыки, быть может, знак нашего желания прорваться в эти невозможные миры.
В Меланхолике, вопреки жизненным обстоятельствам, я решил рассказать вам и себе пару невозможных историй — быть может, о неожиданном и внезапном спасении тогда, когда все силы мира и собственной души против тебя.
Утомительной чертой моей депрессии, максимально осложняющей мою жизнь, является постоянная тревога, которая не купируется лекарствами. Будто разлитый, расплавленный свинец, бурлящая ртуть, она булькает неустанно в моей груди, разливается по телу, пронзает мои мысли, проникает в зрение, слух, осязание. Именно поэтому хочется записывать максимально безмятежную, напевную музыку — чтобы спокойствие и равновесие были бы хотя бы в ней.
Кто-то из великих, кажется, Шуберт, как-то высказал сомнение: существует ли по-настоящему веселая музыка? Можно понимать это в том смысле, что в сердце любой музыки притаилась обреченность и хрупкость, печаль неотвратимости. Однако можно усомниться и в том, есть ли также по-настоящему печальная музыка? Способна ли музыка вообще выражать наш опыт — говорить хотя о нем с такой же искренностью, как наши слова?
Безусловно, к нашему восприятию музыки примешиваются эмоции — музыка вдохновляет нас на переживание счастья, веселья, печали, иногда кажущихся беспричинными, будто бы привнесенными извне. С помощью этой способности музыка создает резонанс — настраивает умы слушателей в унисон так, что они могут чувствовать сходные эмоции. Разве это не прямая коммуникация эмоций? Думаю, что нет, так как музыка не сообщает конкретное чувство, существующее в контексте обстоятельств. Музыка говорит печалью, но эта печаль — печаль вообще, абстрактная, отстраненная от мира. Поэтому, выражая собственные эмоции с помощью музыки, мы не сообщаем их другому, скорее мы строим виртуальную модель чувства, которая может вызвать резонанс у другого человека — его личный опыт будет выстроен так, что он испытает эмоцию, но сообщения чужого опыта, опыта музыканта или композитора, не происходит.
Однако это отнюдь не недостаток музыки — абстрактный характер музыкальных эмоций позволяет им быть чистыми, максимально концентрированными. Этим, быть может, объясняется ощущение некоторых слушателей, что именно с помощью музыки они способны жить подлинной, сверхнасыщенной эмоциональной жизнью, недоступной в повседневности.
Трудность в том, чтобы передать опыт депрессии тому, у кого её никогда не было, пожалуй, заключается в том, что депрессия — это не какое-то отдельное переживание или внутренний факт. С депрессией не просто в нашем внутреннем опыте что-то прибавляется или отнимается; такое бы мог бы представить без особых трудностей обычный человек без такого опыта. Напротив, при депрессии происходит полная перестройка опыта — меняются не отдельные факты мира, но мир в целом, он будто бы становится более тесным, становится меньше, вещи мира начинают давить на тебя и ранить, само течение времени — через скуку и тревогу — становится болезненным. Таким образом, меняются не элементы опыта, но сама его структура. Мир больного депрессией отличается от мира здорового человека, так же, как мир человека, скажем, в религиозном или алкогольном экстазе отличается от мира повседневного опыта.
Как можно тогда преодолеть эту бездну непонимания? Полагаю, для этого требуется совместная чуткость и терпение — и готовность человека без депрессии выйти с помощью воображения за границы обычного опыта. Но, кажется, что это редкая возможность, поэтому в подавляющем большинстве случаев больные депрессией остаются наедине со своими состояниями даже тогда, когда их вроде бы готовы слушать, ведь подлинного понимания не происходит. Остаются в своем собственном психическом концлагере, где невозможна свобода — посреди вроде бы сытой и сравнительно благополучной обыденной жизни.
Отсутствие внутренней свободы и гибкости — еще одна яркая черта любого психического расстройства, связанная с перестройкой структуры опыта, в частности, депрессии. Карен Хорни в своей "Невротической личности нашего времени" приводит пример человека, за которым гонится лев — такой человек вряд сможет спокойно прогуливаться по джунглям. При тревоги и депрессии кажется, что на тебя объявили охоту — ты не можешь просто спокойно менять одно занятие на другое, прогуливаться сквозь повседневность, ты пытаешься сладить со своими состояниями, сбежать от них, найти обезболивающее. Над тобой висит невыразимая, непонятная судьба, тебе подгоняет внутренняя необходимость, от которой ты больше всего бы хотел избавиться, чтобы вернуть себе свободу движения.
Депрессия - это во многом опыт изоляции. Кроме того, что ты изолирован от обычной жизни, от социума, ты изолирован от обычных, нормальных, привычных эмоций. Будто бы части психики отрезаны от сознания — ты не можешь, скажем, почувствовать радость, думать о будущем или вспоминать хорошие моменты из прошлого. На самом деле, ситуация сложнее и её трудно передать с помощью привычных слов, но в первом приближении речь идет именно о фрагментации мышления, эмоций и воли. Может быть, как раз поэтому музыка — такое хорошее лекарство, ведь она способна восстанавливать целостность фрагментарному, способна создавать общее, единое пространство, в котором играют - свободно, радужно, пёстро - способности человеческого ума. Это не решение проблемы, но точно временное облегчение, обезболивание.
Как ни странно, любая музыка, даже сыгранная в одиночестве, коммуникативна — такова её природа, она создает виртуальное общее пространство резонанса, где предполагается совместное действие, совместная игра, совместное восприятие, единство пульсации и стремления. Любая музыка потенциально содержит в себе общение как совместная практика — и потому способна объединять людей и, вероятно, восстанавливать единство разрозненному уму.
… так расцветают оазисы, так молчание становится песней.
Творчество кажется спасением, актом творения из ничего. Это тайна появления ex nihilo, тайна негарантированного и невозможного в силу невероятной редкости — так великие земли нашего мира, нашей Вселенной возникли, выдвинулись из пустоты, так зажглись звезды, так в плотной, горячей Вселенной впервые возник свет. Мысли об этом заставляют меня трепетать.
Музыка и тексты, с одной стороны, способ для меня выразить свои ощущения и мысли и, таким образом, почувствовать реальность и плотность собственного существования, которые ускользают во время депрессии, с другой стороны, являются коммуникативным актом, способом самоподдержки и способом получить поддержку, пусть и виртуальную. Способом заявить — для себя и других — "я реален и я существую, через что бы мне не пришлось проходить".
Пожалуй, одно из самых неприятных проявлений хронической резистентной депрессии — это постоянно пульсирующее где-то в подкорке чувство отчаяния. Оно нашёптывает, что твое время истекло, что ничего хорошего уже не будет, что все испробовано, что все, что ты делаешь, бессмысленно и ничтожно. И лишь постоянным усилием воли удается держать эти мысли на горизонте сознания, гнать их, чтобы они становились меньше, чтобы они голодали и мельчали. Это постоянное привычное усилие очень утомляет, обескровливает, делает жизнь в каком-то смысле плоской и однонаправленной; очень хочется расслабиться и отдохнуть, но нельзя, так как сразу начнёшь тонуть в этой вязкой смоле. Поэтому приходится продолжать и каждый день начинать свою борьбу заново.
Музыка может помочь выместить чувства — превратить эмоцию в моторику, в движение пальцев над фортепианной клавиатурой. Кажется, именно это мы называем способностью музыки выражать эмоции; звук даже не столько выражает, сколько замещает чувство, как это бывает с нечленораздельными возгласами или мимикой. Но важнее выражения то, что музыка способна дарить нам возможность проживать истории, которые никогда с нами не происходили и не могли происходить. В этих историях может нарушаться даже сама логика — они невероятны и невозможны, но все же существуют, все же звучат и ведут за собой. И щемящая грусть, которая часто примешивается к нашему восприятию музыки, быть может, знак нашего желания прорваться в эти невозможные миры.
В Меланхолике, вопреки жизненным обстоятельствам, я решил рассказать вам и себе пару невозможных историй — быть может, о неожиданном и внезапном спасении тогда, когда все силы мира и собственной души против тебя.
Утомительной чертой моей депрессии, максимально осложняющей мою жизнь, является постоянная тревога, которая не купируется лекарствами. Будто разлитый, расплавленный свинец, бурлящая ртуть, она булькает неустанно в моей груди, разливается по телу, пронзает мои мысли, проникает в зрение, слух, осязание. Именно поэтому хочется записывать максимально безмятежную, напевную музыку — чтобы спокойствие и равновесие были бы хотя бы в ней.
Кто-то из великих, кажется, Шуберт, как-то высказал сомнение: существует ли по-настоящему веселая музыка? Можно понимать это в том смысле, что в сердце любой музыки притаилась обреченность и хрупкость, печаль неотвратимости. Однако можно усомниться и в том, есть ли также по-настоящему печальная музыка? Способна ли музыка вообще выражать наш опыт — говорить хотя о нем с такой же искренностью, как наши слова?
Безусловно, к нашему восприятию музыки примешиваются эмоции — музыка вдохновляет нас на переживание счастья, веселья, печали, иногда кажущихся беспричинными, будто бы привнесенными извне. С помощью этой способности музыка создает резонанс — настраивает умы слушателей в унисон так, что они могут чувствовать сходные эмоции. Разве это не прямая коммуникация эмоций? Думаю, что нет, так как музыка не сообщает конкретное чувство, существующее в контексте обстоятельств. Музыка говорит печалью, но эта печаль — печаль вообще, абстрактная, отстраненная от мира. Поэтому, выражая собственные эмоции с помощью музыки, мы не сообщаем их другому, скорее мы строим виртуальную модель чувства, которая может вызвать резонанс у другого человека — его личный опыт будет выстроен так, что он испытает эмоцию, но сообщения чужого опыта, опыта музыканта или композитора, не происходит.
Однако это отнюдь не недостаток музыки — абстрактный характер музыкальных эмоций позволяет им быть чистыми, максимально концентрированными. Этим, быть может, объясняется ощущение некоторых слушателей, что именно с помощью музыки они способны жить подлинной, сверхнасыщенной эмоциональной жизнью, недоступной в повседневности.
Трудность в том, чтобы передать опыт депрессии тому, у кого её никогда не было, пожалуй, заключается в том, что депрессия — это не какое-то отдельное переживание или внутренний факт. С депрессией не просто в нашем внутреннем опыте что-то прибавляется или отнимается; такое бы мог бы представить без особых трудностей обычный человек без такого опыта. Напротив, при депрессии происходит полная перестройка опыта — меняются не отдельные факты мира, но мир в целом, он будто бы становится более тесным, становится меньше, вещи мира начинают давить на тебя и ранить, само течение времени — через скуку и тревогу — становится болезненным. Таким образом, меняются не элементы опыта, но сама его структура. Мир больного депрессией отличается от мира здорового человека, так же, как мир человека, скажем, в религиозном или алкогольном экстазе отличается от мира повседневного опыта.
Как можно тогда преодолеть эту бездну непонимания? Полагаю, для этого требуется совместная чуткость и терпение — и готовность человека без депрессии выйти с помощью воображения за границы обычного опыта. Но, кажется, что это редкая возможность, поэтому в подавляющем большинстве случаев больные депрессией остаются наедине со своими состояниями даже тогда, когда их вроде бы готовы слушать, ведь подлинного понимания не происходит. Остаются в своем собственном психическом концлагере, где невозможна свобода — посреди вроде бы сытой и сравнительно благополучной обыденной жизни.
Отсутствие внутренней свободы и гибкости — еще одна яркая черта любого психического расстройства, связанная с перестройкой структуры опыта, в частности, депрессии. Карен Хорни в своей "Невротической личности нашего времени" приводит пример человека, за которым гонится лев — такой человек вряд сможет спокойно прогуливаться по джунглям. При тревоги и депрессии кажется, что на тебя объявили охоту — ты не можешь просто спокойно менять одно занятие на другое, прогуливаться сквозь повседневность, ты пытаешься сладить со своими состояниями, сбежать от них, найти обезболивающее. Над тобой висит невыразимая, непонятная судьба, тебе подгоняет внутренняя необходимость, от которой ты больше всего бы хотел избавиться, чтобы вернуть себе свободу движения.
Депрессия - это во многом опыт изоляции. Кроме того, что ты изолирован от обычной жизни, от социума, ты изолирован от обычных, нормальных, привычных эмоций. Будто бы части психики отрезаны от сознания — ты не можешь, скажем, почувствовать радость, думать о будущем или вспоминать хорошие моменты из прошлого. На самом деле, ситуация сложнее и её трудно передать с помощью привычных слов, но в первом приближении речь идет именно о фрагментации мышления, эмоций и воли. Может быть, как раз поэтому музыка — такое хорошее лекарство, ведь она способна восстанавливать целостность фрагментарному, способна создавать общее, единое пространство, в котором играют - свободно, радужно, пёстро - способности человеческого ума. Это не решение проблемы, но точно временное облегчение, обезболивание.
Как ни странно, любая музыка, даже сыгранная в одиночестве, коммуникативна — такова её природа, она создает виртуальное общее пространство резонанса, где предполагается совместное действие, совместная игра, совместное восприятие, единство пульсации и стремления. Любая музыка потенциально содержит в себе общение как совместная практика — и потому способна объединять людей и, вероятно, восстанавливать единство разрозненному уму.
… так расцветают оазисы, так молчание становится песней.
I.
Зима ползучий зверь
Тут везде её смуглые знаки
Метель растает ртутью когда-нибудь
Но в эту смутную полночь
В дальнем уголке уголёк тлеет
Как воспоминание о витражах собора
Пораженных светом.
II.
Музыка — это беспокойный сон мотылька,
Оглушающее молчание,
Переход от полуночи к солнцу,
Беспричинное торжество
Беспокойной лазури.
Тождеством вовнутрь серебрится ветер.
В музыке было три части:
Речь, гармония, ритм.
Но слово затерялось на этих пустых равнинах,
Застыло,
Угасло.
Слово сморщилось,
Стало маленьким как семечко, как рисинка.
Чужеродное твердое, плотное тело,
Застрявшее в горле.
Гармония обернулась плотностями,
Тончайшими колебаниями,
Стала ритмом.
Ритм же распался, рассеялся
Аннигилировал в чистый свет.
Но это сегодня.
Вчера же в золоченном сне
Властвовало долгое дыхание.
От грёзы к грёзе опадают волны. Волны гасят ветер.
III.
Свет, снег и ветер,
Слепой танец в предпоследние времена,
Равно удаленное от всех широт объятие.
Дрожь случайности высекает снопы драгоценных искр,
В малом — тончайшее.
Солнце склонилось к земле,
Впилось в почву корнями.
Горизонтам тесно,
Протяни руку — коснешься радуги кончиками пальцев.
IV.
Отзвуки.
Ответы.
Отсветы.
Зеркало.
В его холодной глубине, я верю, бьётся твое пламеточивое сердце.
V.
Разум-рана,
Разрыв, удаленный на бесконечность,
Скудные узоры,
Горизонты событий.
Размеренная, деловитая поступь.
Холодная голова,
Горячий лёд.
Этот скупой порядок скоро растает
Первой слезой.
Трещинами оглушена поверхность,
В ее пустоте свила гнездо ее собственная гибель.
Заново сплетается песня из растаявшего снега, скучного пейзажа и веселых искорок.
Зима ползучий зверь
Тут везде её смуглые знаки
Метель растает ртутью когда-нибудь
Но в эту смутную полночь
В дальнем уголке уголёк тлеет
Как воспоминание о витражах собора
Пораженных светом.
II.
Музыка — это беспокойный сон мотылька,
Оглушающее молчание,
Переход от полуночи к солнцу,
Беспричинное торжество
Беспокойной лазури.
Тождеством вовнутрь серебрится ветер.
В музыке было три части:
Речь, гармония, ритм.
Но слово затерялось на этих пустых равнинах,
Застыло,
Угасло.
Слово сморщилось,
Стало маленьким как семечко, как рисинка.
Чужеродное твердое, плотное тело,
Застрявшее в горле.
Гармония обернулась плотностями,
Тончайшими колебаниями,
Стала ритмом.
Ритм же распался, рассеялся
Аннигилировал в чистый свет.
Но это сегодня.
Вчера же в золоченном сне
Властвовало долгое дыхание.
От грёзы к грёзе опадают волны. Волны гасят ветер.
III.
Свет, снег и ветер,
Слепой танец в предпоследние времена,
Равно удаленное от всех широт объятие.
Дрожь случайности высекает снопы драгоценных искр,
В малом — тончайшее.
Солнце склонилось к земле,
Впилось в почву корнями.
Горизонтам тесно,
Протяни руку — коснешься радуги кончиками пальцев.
IV.
Отзвуки.
Ответы.
Отсветы.
Зеркало.
В его холодной глубине, я верю, бьётся твое пламеточивое сердце.
V.
Разум-рана,
Разрыв, удаленный на бесконечность,
Скудные узоры,
Горизонты событий.
Размеренная, деловитая поступь.
Холодная голова,
Горячий лёд.
Этот скупой порядок скоро растает
Первой слезой.
Трещинами оглушена поверхность,
В ее пустоте свила гнездо ее собственная гибель.
Заново сплетается песня из растаявшего снега, скучного пейзажа и веселых искорок.

VI.
Слово — это мох и лишайник,
Это непослушный, упрямый цвет,
Восходящий туманами к звёздам,
Расстояние от полумесяца до прощания,
Чересполосица сладости и звона,
Песнь необычайного предзнаменования.
Слово — это судорога,
Тектонический жест,
Бледный тон в алеющем громе,
Радость без имени и надежды,
Потерянный голос рябого ветра,
Горизонты за горизонтами.
В лицах — тысячи смутных знаков.
Лица всегда молчат.
VII.
Скрытая традиция,
Неспокойное знание,
Весточка, влекущая молчание.
Покуда предвосхищение выковывает за сном сон,
В потоках пасмурных вод растаяло безнадежное солнце.
VIII.
Возможность пахнет миндалем,
Она острая, внезапно колкая.
Головокружение как объятия снега.
Как внезапная утрата равновесия,
Растекающаяся беспокойным теплом от сердца.
Как мерцающий одинокий голос флейты, потерявший опору и безнадежно
ищущий тон.
Марево, серебряная паутина похищает цвета и нарушает контуры.
Сумерки растекаются тенями на глазном дне.
Укол звука, волнами опадают резонансы.
Тишина оплетает тончайшее пианиссимо намеками.
То, чего не знает анализ:
В самом воображении рана,
Её границы кровоточат тревогой.
Возможность и есть мир, его изнанка, Ungrund,
Глубина, что глубже всех глубин.
Рождение множества из мысли,
Отрицающей само отрицание,
Principia prima et ultima.
От этого захватывает дыхание.
Для этого не будет слов.
Возможность и есть травма.
IX.
Смысл — как ultima ratio,
Как финальное возмездие,
Беспомощного, утомленного разума,
Как последняя приливная волна драмы,
Последнее слово обманутого властолюбца.
Тропами всеобъемлющего духа
Ступает рана,
С которой нельзя смириться,
Которая оборачивается в самых глубоких лабиринтах сна
Судорогой кошмара.
Когда держава выпадает из ослабевших рук,
Когда утихает, блекнет порыв,
Когда свинцом тяжелеют мысли,
Остаётся смысл.
Последняя попытка сохранить не лицо, но лик.
X.
Времени больше не будет.
Пуля на излёте упала в кромешную тьму.
Красные росы выступают на ядре атома.
Мерцает монохромная рябь цветов и трав,
Линиями бежит,
Меркнет под напоенным громом небом.
Слои — пряные, солнечные, лунные -
Беспорядочно смешиваются,
Утрачивают внутренние границы.
Стучит механическая литургия,
Структуры покрыты тающим льдом.
Шепчет дождь.
Эти сны — томное беспокойство,
Нежная ярость,
Иступленная тишина.
XI.
Что такое колесница?
Колеса, древесина, возница?
Путь, скука, скорость?
Вечно отдаляющиеся место прибытия?
В этой колеснице когда-то был лишь один возница.
Теперь небеса отражаются в небесах,
А дорога свернулась змеёй.
Там, где был центр,
Сошлись лучами осколки зеркала,
На котором никогда не было и не могло быть пыли.
Удар — сбой — удар,
То ли сердце, то ли солнце захлёбывается
В этом головокружительном падении.
Что такое колесница?
Если задуматься, никогда не было ни колесницы, ни возничего, ни пути.
Только травы и росы сообщают босым ногам радугу.
XII.
Всякое движение скрадено
Лишь внутри петли и кольца вьются
Набухают сталью
Удар за ударом
Бьется ошалевшее сердце.
И нет выхода этому беспокойному стремлению,
Закольцованному на себя.

Постскриптум.
Музыка, как и жизнь, никогда по настоящему не заканчивается — она всеобъемлющая, он трансцендентальная, она повсюду, проникает везде. Но также с моей депрессией — это хроническое состояние, спутник, который никогда не покидает меня, спутник, который забрал себе слишком многое. Много раз в моей жизни депрессия побеждала во мне музыку, но всякий раз живое прорывалось, прорастало сквозь эту пелену. Этот проект — Меланхолика — мой личной символ стойкости и приверженности делу.
Музыка, как и жизнь, никогда по настоящему не заканчивается — она всеобъемлющая, он трансцендентальная, она повсюду, проникает везде. Но также с моей депрессией — это хроническое состояние, спутник, который никогда не покидает меня, спутник, который забрал себе слишком многое. Много раз в моей жизни депрессия побеждала во мне музыку, но всякий раз живое прорывалось, прорастало сквозь эту пелену. Этот проект — Меланхолика — мой личной символ стойкости и приверженности делу.
...так расцветают оазисы, так молчание становится песней.
